…начало
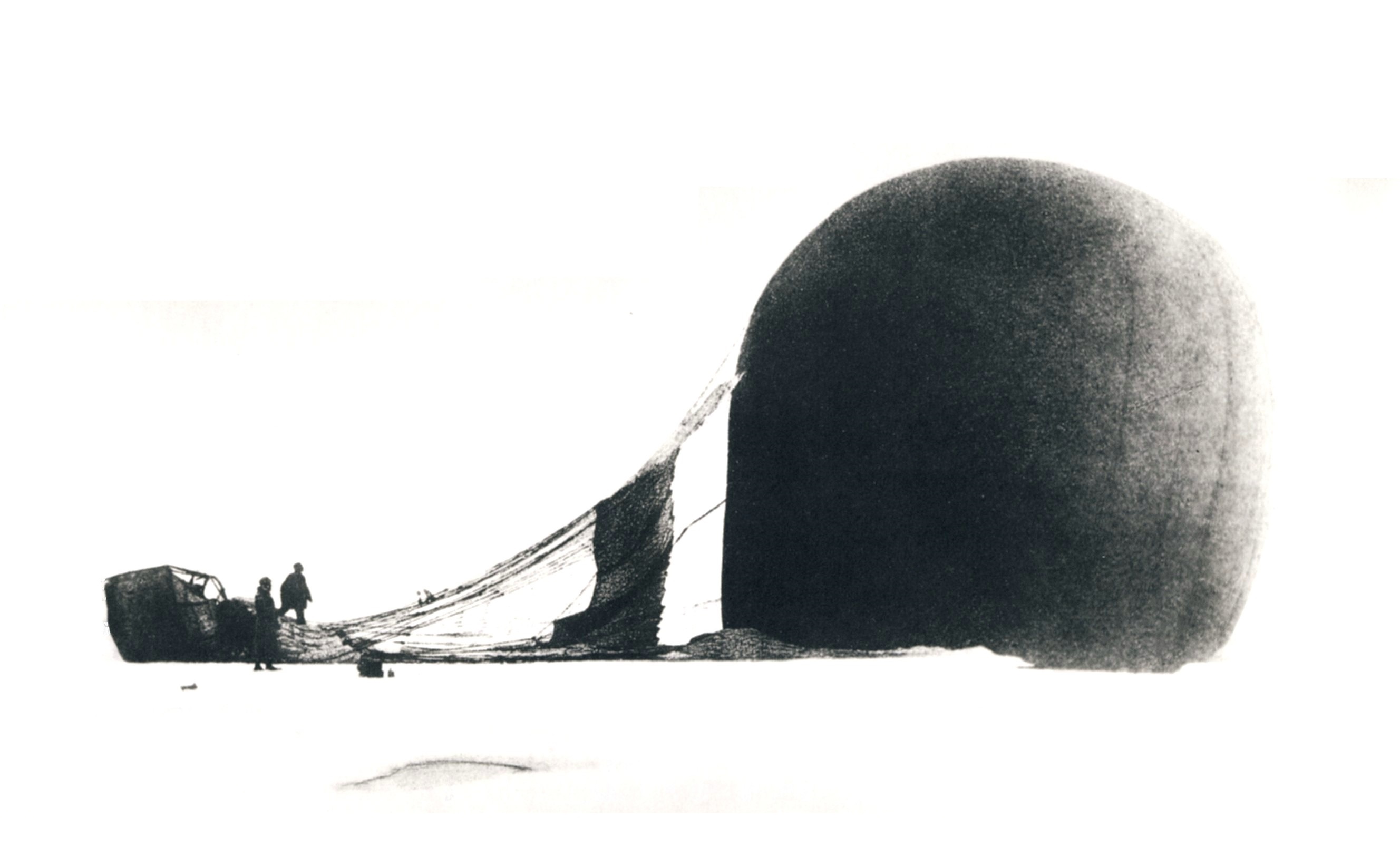
![]()
“Это заведомо неверный путь, как во истину шипящим пророчеством с губ звучало моего поводыря-отца-матери-сестры-брата — как бы того, кто со мной связан красной нитью родственных гипотез о воссоединении душ после смертельного мрака для строительства небесного дома с видом на космический океан, стекающий по жерлу меж гнилых, жёлтых, как вымя солнца, зубов голодного, ужас мой, голодного призрака.
Да, того самого. Который являлся ко мне однажды в восьмом классе среднеобразовательной школы в день «эн» и одновременно «икс», от суматошно безразличного до рокового дня одновременно, около полуночи портретным образом на рваном листочке обоев. «Убивайте себя с заботой о возрождении мысленно, словесно и физически, если хотите — ваша метка прицелом винтовки безразличного страха вытатуирована, ваши мозги уже разбросаны по шоссе. Только вдумайтесь об их несущественном наличии внутри себя, да знайте, это ваше остаточное желание быть подвластным своей обездвиженной кроне.
Вы человек. Но вы чучело на трофейной доске охотника, о котором говорят дети в чёрной, как глубокий сон, комнате меж проклятых и вознесённых до славы творца, постсоветских кварталов. Это исключительная возможность быть затянутым в геометрию архитектуры градостроительства и кругов в кругах, да в кругах обстоятельств. Умирать я вам оставлю сам без вашего выбора, но дам выбор возродиться ли» – нахрапом, давлением, движением за руку прочь от. От всего, что могло в купе со всем написать на мне иную историю. Но истории забываются, как у стены для приведения смертельного приговора в свет, хотят быть узнаваемыми, держаться вечной коркой на вечных губах — но свинец заполняет мягкие ткани, плавит их водой в океаны внутри пылающей ниши жемчужных глаз тех, кто по наитию играет в чужой траур. Кто проживает чужие зимы, мерит чужие лица, любит чужих идолов. Но не готов, не готов умирать за них.
Осенью, неважно какой, но важно, блин, осенью — я зачем-то вдруг понял, что готов умереть за тебя.”


“Я боюсь, я боюсь правды. А вы тащите меня к ней, тащите, тащите, тащите, надевая наручники из своих тонких пальцев на мои запястья. И я вижу всё неподдельно, но губам моим сложнее цеплять этот тяжёлый воздух”.

“но у меня был друг — он выходил на балкон каждый день, смотрел на эфир первичной формы реальности,
разбирал на шаги близости, дальности, курил сигареты, пил молоко. Вы же знаете, как нелегко не сойти с ума,
когда в вашей истории нет ничего особенного? Просто балкон, сигареты,
война”.

«Если у тебя связаны руки и ты сидишь один посреди бездушного пространства времени, очень больно смотреть, как горят твои картонные замки. Можно сильно щурить глаза, пытаться не взирать происходящее, но глаза подсознания видят намного больше».